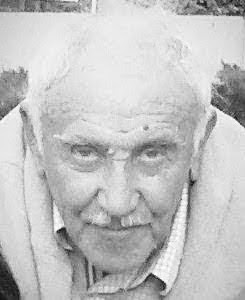Свой реализм есть и у классицизма, и у предшествующих,
и у последующих больших стилей.
Первое произведение Пушкина
(к проблемам периодизации творчества)
Сначала я шалил,
Шутя стихи кроил...
“К Дельвигу” 1815 г.
“Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии...” [1] - Писал о Пушкине в 1816 году Е. А. Энгельгардт, очередной директор лицея. И, конечно, ошибался. Но если б отнести это мнение к Пушкину более раннему...
1813-м годом датируют первые дошедшие до нас пушкинские сочинения: стихотворение “К Наталье” и поэму “Монах”. В “Монахе” Пушкин кое о чем пишет так, что если понимать стихи в лоб, буквально, то можно подумать, что он уже не мальчик и что замешана в этом некая Наталья. Судите сами:
Люблю тебя, о юбка дорогая,
Когда меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,
Касаешься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.
Иль, как Филон, за Хлоей побежав,
. . . . . . . . . . . . . . . .
С ней на траву душистую валится,
И пламенна, дрожащая рука
Счастливого любовью пастуха
Тебя за край тихонько поднимает...
Она ему взор томный осклабляет.
И он... но нет; не смею продолжать.
Я трепещу, и сердце сильно бьется,
И, может быть, читатели, как знать?
И ваша кровь с стремленьем страсти льется.
Но наш монах о юбке рассуждал
Не так, как я (я молод, не пострижен
И счастием нимало не обижен).
Что это за Наталья, которая не обидела автора счастьем? Смотрим самое первое известное пушкинское стихотворение - “К Наталье”:
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце - Купидон!
Естественно связать одну Наталью с другою.
Комментаторы считают стихотворение “К Наталье” обращенным к крепостной актрисе театра графа Толстого в Царском Селе. И если они правы, а также если правильно датирование и “Монаха” и “К Наталье” (1813 годом), то возникает предположение, что отрок Пушкин просто вообразил себя мужчиной и с такой точки зрения написал и стихотворение и поэму. Вообразил, ибо в 1813 году он не то что прелести, а и саму Наталью мог видеть только очень и очень издали, в парке и из строя лицеистов.
Действительно, читаем Томашевского:
“Годы 1816-1817 принадлежат уже к новому периоду в лицейском творчестве Пушкина. Ряд существенных обстоятельств дал новое направление его лирике. В эти годы Пушкин уже не мальчик... Он уже смотрел на мир другими глазами. Изменился самый быт Лицея особенно после того, как директором, в феврале 1816 г., был назначен Энгельгардт. Вот что мы читаем в записках Корфа: “И в самом Царском Селе, в первые три или четыре года, нас не выпускали порознь даже из стен лицея, так что когда приезжали родители или родственники, то их заставили сидеть с нами в общей зале или, при прогулках, бегать по саду за нашими рядами. Инспектор и гувернеры считались лучшею, нежели родители, стражею для наших нравов... После все переменилось, и в свободное время мы ходили не только к Тепперу и в другие почтенные дома, но и в кондитерскую Амбиеля, а также по гусарам, сперва в одни праздники и по билетам, а потом и в будни, без всякого уже спроса, даже без ведома наших приставников, возвращались иногда в глубокую ночь. Думаю, что иные пропадали и на целую ночь... Маленький тринкгельд швейцару мирил все дело, потому что гувернеры и дядьки все давно уже спали”.” [2]
Причем дядек было столько, сколько лицеистов, и каждый спал в той же персональной каморке, что выделялась каждому лицеисту! Но дядьки все поголовно спали в одиночестве. Значит, им стало это разрешено. Каково ж было до 1816-го года, до энгельгардтовых послаблений? - Что-то вроде монастыря.
Так что все кудрявое в 1813 году Пушкин выдумал. Да вот у поэта выдумки поважнее яви.
Большинством признано, что Пушкин начинал свое поприще в стиле рококо. Но забывается, что рококо это не только поэзия минуты, не только культ наслаждений, не только сцены наивности и невинности, легко уживающиеся с фривольностью, но что рококо это еще и скептицизм, что это время расцвета эпиграмм и карикатур. А для скептицизма, нужно иметь не только острый глаз и перо, но и холодное сердце, не увлекающееся ничем в особенности, чтоб замечать все и позволять себе - тоже все.
Для отрока, только еще вступающего в жизнь в искусстве, это и вовсе естественная позиция: глаза и уши, широко открыты “всем впечатленьям”, только не “бытия”, а у`же - разговорам о жизни и чтению книг (потому что от бытия тринадцатилетний Пушкин был огражден изрядно суровым режимом лицея). А еще в его распоряжении было собственное воображение. Инструментом же исследования этой псевдодействительности была его собственная душа. И результатом - собственное произведение.
Сочиняя, Пушкин осуществлял как бы незаинтересованное, непредвзятое исследование чужих и своих вымыслов и рассказов. Потому, может, он создавал - путем бесчисленных поправок. Он искал правду, можно сказать, изучал мир. Это был уже некий реализм [3], в чем-то сохранившийся на всю жизнь. Бестенденциозный и беспощадный реализм. В чем-то прав был Белинский, написавший про Пушкина вообще такие слова: “Он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине” [4]. В чем-то прав. Потому - в чем-то, что Пушкин много раз изменялся. И когда отходил от широко понимаемого реализма - приведенные слова характеризовали его неправильно. Но он опять и опять возвращался к реализму [5], понимаемому широко (ведь свой реализм есть и у классицизма, и у предшествующих, и у последующих больших стилей). И обобщающие слова великого критика опять и опять оказывались приложимыми к великому поэту. Вот и такие: “Он... на все смотрит с любовью и благословением” [6], - как бы развивающие слова, приведенные выше,- если их превратить, оставив бестенденциозными, в свою противоположность, то и тогда они охарактеризуют отрока Пушкина: он на все смотрит со скептицизмом и насмешкою, столь свойственной рококо.
Давайте посмотрим, как это проявляется.
Первое дошедшее до нас произведение - “К Наталье” - поначалу кажется банально эротическим:
...Вижу, в легком одеянье
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи -
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...
Так и кажется, что хулиганистый мальчишка назло воспитателям выбирает материалом поэзии ультранедозволенное. К тому ж это удовлетворяет естественным и низменным пробуждающимся интересам его самого и товарищей-одногодков. И, кажется, он пошел путем снискания дешевой и низкопробной славы. Однако...
Он оборвал описание:
И проснулся...
Давайте задумаемся: зачем он оборвал? Ведь сверстникам было чрезвычайно любопытно, что дальше.
А он не только оборвал, но и поиздевался над сексуальной озабоченностью своего героя-подростка, хотя бы уже в силу возраста (не говоря уж об обстоятельствах) не способного - и не его вина - решить проблему нормальным порядком. Свой над своим не поиздевался бы. Перед нами не шалун, а “автор”, “новоявленный мужчина”, который уже “счастием нимало не обижен”. И он почти беспощаден к герою и дальше делает по отношению к тому кое-что и похуже: почти описывает, как тот самоудовлетворяется:
И проснулся... вижу мрак
Вкруг постели одинокой!
Испускаю вздох глубокий,
Сон ленивый, томноокий
Отлетает на крылах.
Страсть сильнее становится,
И, любовью утомясь,
Я слабею всякий час.
Это ж намеки на детский грех. Такой язвительностью товарищей скорей испугаешь, чем приобретешь у них славу умельца ублажить сверстников эротическими сценами.
Так что уже по этим строкам видим, что перед нами совсем не мальчишеское стихотворение. “Автор”, каким его выводит в стихотворении Пушкин, хоть и очень смел, но не до последней крайности. И амортизирует еще большие крайности, притягивающие его героя хотя бы вследствие все той же неудовлетворяемой сексуальной озабоченности. Вот почему “автор” оборвал рассказ героя о своем видении, вот почему сделал эротическую сцену прервавшимся сном.
Все и психологически обосновано. Когда ж соблазнительным картинам и попадать-то в сны? - Когда любовное томление не изжито в реальности. Или вот: можно ли пережить во сне то, что абсолютно неведомо было наяву? - Нельзя. Вот сон и оборвался.
Это, если хотите, уже некое завоевание некого реализма как исследования действительности, пусть и воображаемой.
Но кроме того здесь присутствует замаскированная под психологизм воля, воля более, чем герой, уравновешенного ”автора”: оголтелого подростка надо останавливать!
И не зря “автор” дал герою пощечину (намек на детский грех). Это холодный душ зарвавшемуся птенчику.
Да птенчик и вообще непригляден. И ничего-то святого нет - так уж “автор” беспощаден - в описании переживаний своего птенчика. Смотрите. Как начались они?
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце - Купидон!
Весомо, грубо, зримо... Через три года, в 1816-м, лицеистам будет разрешено ходить в театр, а графом Толстым будет позволено в театре ходить за кулисы, в уборные к актрисам. Те там переодеваются... А еще в 1813-м Пушкин это уже предвидит. И не удивительно. Он еще раньше - еще дома, где на него не обращали внимания и потому ничего не скрывали - знал, что такое актрисы. Ничего духовного, связанного со словом “театр”. Наоборот. Актрисы считались доступными женщинами, провоцирующими на разнузданность. И вот теперь, разгоряченный актрисою, но вынужденный воздерживаться, герой его стихотворения хочет хотя бы словами облегчиться:
Все к чему-то ум стремится...
А к чему? - никто из нас
Дамам вслух того не скажет,
А уж так и сяк размажет.
Я - по-свойски объяснюсь.
Можно тихо испугаться: что ж предстоит прочесть далее? Не дошел бы раззадоренный герой до табуированной речи.
Но не тут-то было. Дальше мы читаем слова как бы другого человека. Приведенный “автором” в чувство герой стихотворения начинает воображать себя и милую героями представлений, даваемых со сцены: персонажем из оперы Аблесимова, из комедии Бомарше,- то есть представлять себя не в такой уж крайности, как ранее:
Завернувшись балахоном,
С хватской шапкой набекрень
Комментаторы считают стихотворение “К Наталье” обращенным к крепостной актрисе театра графа Толстого в Царском Селе. И если они правы, а также если правильно датирование и “Монаха” и “К Наталье” (1813 годом), то возникает предположение, что отрок Пушкин просто вообразил себя мужчиной и с такой точки зрения написал и стихотворение и поэму. Вообразил, ибо в 1813 году он не то что прелести, а и саму Наталью мог видеть только очень и очень издали, в парке и из строя лицеистов.
Действительно, читаем Томашевского:
“Годы 1816-1817 принадлежат уже к новому периоду в лицейском творчестве Пушкина. Ряд существенных обстоятельств дал новое направление его лирике. В эти годы Пушкин уже не мальчик... Он уже смотрел на мир другими глазами. Изменился самый быт Лицея особенно после того, как директором, в феврале 1816 г., был назначен Энгельгардт. Вот что мы читаем в записках Корфа: “И в самом Царском Селе, в первые три или четыре года, нас не выпускали порознь даже из стен лицея, так что когда приезжали родители или родственники, то их заставили сидеть с нами в общей зале или, при прогулках, бегать по саду за нашими рядами. Инспектор и гувернеры считались лучшею, нежели родители, стражею для наших нравов... После все переменилось, и в свободное время мы ходили не только к Тепперу и в другие почтенные дома, но и в кондитерскую Амбиеля, а также по гусарам, сперва в одни праздники и по билетам, а потом и в будни, без всякого уже спроса, даже без ведома наших приставников, возвращались иногда в глубокую ночь. Думаю, что иные пропадали и на целую ночь... Маленький тринкгельд швейцару мирил все дело, потому что гувернеры и дядьки все давно уже спали”.” [2]
Причем дядек было столько, сколько лицеистов, и каждый спал в той же персональной каморке, что выделялась каждому лицеисту! Но дядьки все поголовно спали в одиночестве. Значит, им стало это разрешено. Каково ж было до 1816-го года, до энгельгардтовых послаблений? - Что-то вроде монастыря.
Так что все кудрявое в 1813 году Пушкин выдумал. Да вот у поэта выдумки поважнее яви.
Большинством признано, что Пушкин начинал свое поприще в стиле рококо. Но забывается, что рококо это не только поэзия минуты, не только культ наслаждений, не только сцены наивности и невинности, легко уживающиеся с фривольностью, но что рококо это еще и скептицизм, что это время расцвета эпиграмм и карикатур. А для скептицизма, нужно иметь не только острый глаз и перо, но и холодное сердце, не увлекающееся ничем в особенности, чтоб замечать все и позволять себе - тоже все.
Для отрока, только еще вступающего в жизнь в искусстве, это и вовсе естественная позиция: глаза и уши, широко открыты “всем впечатленьям”, только не “бытия”, а у`же - разговорам о жизни и чтению книг (потому что от бытия тринадцатилетний Пушкин был огражден изрядно суровым режимом лицея). А еще в его распоряжении было собственное воображение. Инструментом же исследования этой псевдодействительности была его собственная душа. И результатом - собственное произведение.
Сочиняя, Пушкин осуществлял как бы незаинтересованное, непредвзятое исследование чужих и своих вымыслов и рассказов. Потому, может, он создавал - путем бесчисленных поправок. Он искал правду, можно сказать, изучал мир. Это был уже некий реализм [3], в чем-то сохранившийся на всю жизнь. Бестенденциозный и беспощадный реализм. В чем-то прав был Белинский, написавший про Пушкина вообще такие слова: “Он не принадлежит исключительно ни к какому учению, ни к какой доктрине” [4]. В чем-то прав. Потому - в чем-то, что Пушкин много раз изменялся. И когда отходил от широко понимаемого реализма - приведенные слова характеризовали его неправильно. Но он опять и опять возвращался к реализму [5], понимаемому широко (ведь свой реализм есть и у классицизма, и у предшествующих, и у последующих больших стилей). И обобщающие слова великого критика опять и опять оказывались приложимыми к великому поэту. Вот и такие: “Он... на все смотрит с любовью и благословением” [6], - как бы развивающие слова, приведенные выше,- если их превратить, оставив бестенденциозными, в свою противоположность, то и тогда они охарактеризуют отрока Пушкина: он на все смотрит со скептицизмом и насмешкою, столь свойственной рококо.
Давайте посмотрим, как это проявляется.
Первое дошедшее до нас произведение - “К Наталье” - поначалу кажется банально эротическим:
...Вижу, в легком одеянье
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи -
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею...
Так и кажется, что хулиганистый мальчишка назло воспитателям выбирает материалом поэзии ультранедозволенное. К тому ж это удовлетворяет естественным и низменным пробуждающимся интересам его самого и товарищей-одногодков. И, кажется, он пошел путем снискания дешевой и низкопробной славы. Однако...
Он оборвал описание:
И проснулся...
Давайте задумаемся: зачем он оборвал? Ведь сверстникам было чрезвычайно любопытно, что дальше.
А он не только оборвал, но и поиздевался над сексуальной озабоченностью своего героя-подростка, хотя бы уже в силу возраста (не говоря уж об обстоятельствах) не способного - и не его вина - решить проблему нормальным порядком. Свой над своим не поиздевался бы. Перед нами не шалун, а “автор”, “новоявленный мужчина”, который уже “счастием нимало не обижен”. И он почти беспощаден к герою и дальше делает по отношению к тому кое-что и похуже: почти описывает, как тот самоудовлетворяется:
И проснулся... вижу мрак
Вкруг постели одинокой!
Испускаю вздох глубокий,
Сон ленивый, томноокий
Отлетает на крылах.
Страсть сильнее становится,
И, любовью утомясь,
Я слабею всякий час.
Это ж намеки на детский грех. Такой язвительностью товарищей скорей испугаешь, чем приобретешь у них славу умельца ублажить сверстников эротическими сценами.
Так что уже по этим строкам видим, что перед нами совсем не мальчишеское стихотворение. “Автор”, каким его выводит в стихотворении Пушкин, хоть и очень смел, но не до последней крайности. И амортизирует еще большие крайности, притягивающие его героя хотя бы вследствие все той же неудовлетворяемой сексуальной озабоченности. Вот почему “автор” оборвал рассказ героя о своем видении, вот почему сделал эротическую сцену прервавшимся сном.
Все и психологически обосновано. Когда ж соблазнительным картинам и попадать-то в сны? - Когда любовное томление не изжито в реальности. Или вот: можно ли пережить во сне то, что абсолютно неведомо было наяву? - Нельзя. Вот сон и оборвался.
Это, если хотите, уже некое завоевание некого реализма как исследования действительности, пусть и воображаемой.
Но кроме того здесь присутствует замаскированная под психологизм воля, воля более, чем герой, уравновешенного ”автора”: оголтелого подростка надо останавливать!
И не зря “автор” дал герою пощечину (намек на детский грех). Это холодный душ зарвавшемуся птенчику.
Да птенчик и вообще непригляден. И ничего-то святого нет - так уж “автор” беспощаден - в описании переживаний своего птенчика. Смотрите. Как начались они?
Миловидной жрицы Тальи
Видел прелести Натальи,
И уж в сердце - Купидон!
Весомо, грубо, зримо... Через три года, в 1816-м, лицеистам будет разрешено ходить в театр, а графом Толстым будет позволено в театре ходить за кулисы, в уборные к актрисам. Те там переодеваются... А еще в 1813-м Пушкин это уже предвидит. И не удивительно. Он еще раньше - еще дома, где на него не обращали внимания и потому ничего не скрывали - знал, что такое актрисы. Ничего духовного, связанного со словом “театр”. Наоборот. Актрисы считались доступными женщинами, провоцирующими на разнузданность. И вот теперь, разгоряченный актрисою, но вынужденный воздерживаться, герой его стихотворения хочет хотя бы словами облегчиться:
Все к чему-то ум стремится...
А к чему? - никто из нас
Дамам вслух того не скажет,
А уж так и сяк размажет.
Я - по-свойски объяснюсь.
Можно тихо испугаться: что ж предстоит прочесть далее? Не дошел бы раззадоренный герой до табуированной речи.
Но не тут-то было. Дальше мы читаем слова как бы другого человека. Приведенный “автором” в чувство герой стихотворения начинает воображать себя и милую героями представлений, даваемых со сцены: персонажем из оперы Аблесимова, из комедии Бомарше,- то есть представлять себя не в такой уж крайности, как ранее:
Завернувшись балахоном,
С хватской шапкой набекрень
[маскируясь, подвергаясь опасности]
Я хотел бы Филимоном...
В следующей воображаемой сцене препятствия любви еще более осложняются: “он” - старик. Как он может рассчитывать на взаимность!?.
Иль седым Опекуном
Легкой, миленькой Розины,
Старым пасынком судьбины,
В епанче и с париком,
Дерзкой пламенной рукою
Белоснежну, полну грудь...
Фантазия отрока Пушкина блестяще проникла в самую суть рококо. Ведь это скучно, когда все - достижимо. Идеал рококо: счастье - сегодня и беспрепятственно. Но рококо и боится собственного идеала: за удовлетворением ведь следует охлаждение. Рококо как бы нервно озирается: как бы это - чтоб и речку перейти и сухим остаться. Чтоб и беспрепятственно в принципе, но и с какими-то препятствиями...
Все любовники желают
И того, чего не знают...
“Автор”, только-только еще ставши мужчиною, уже летит воображением дальше: как отодвинуть охлаждение? И,- как требует глубоко познанное рококо, - егозит, нервничает... И, как требует само искусство, - кидается в противоположности, вызывая в нас,- совсем по Выготскому, открывшему психологический принцип художественности,- сочувствие и противочувствие [7].
Смотрите. Это идет с самого начала стихотворения и до самого конца.
Вот - проблема:
Так и мне узнать случилось,
Что за птица Купидон;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь - и я влюблен!
Следом - беспроблемность:
Пролетело счастья время,
Как любви не знал я бремя,
Я живал да попевал... и т. д.
Как любви не знал я бремя,
Я живал да попевал... и т. д.
Следом - опять проблема:
Но напрасно я смеялся,
Наконец и сам попался,
Сам, увы! с ума сошел...
Наконец и сам попался,
Сам, увы! с ума сошел...
Проблема разрешается:
Я один в беседке с нею,
Вижу... девственну лилею...
Вижу... девственну лилею...
И все рушится:
И проснулся...
А потом опять решается: детским грехом, намерением сказать oaeia!..
Но... вместо oaeiai - пошли ассоциации с театральными сценами, все более проблемными относительно решения любовной коллизии.
Да и там: только лишь воображение доходит слишком далеко - до удовлетворения,- как оно обрывается чем-то сверхпроблемным:
Белоснежну, полну грудь...
Я желал бы... да ногою
Моря не перешагнуть,
И, хоть по уши влюбленный,
Но с тобою разлученный,
Всей надежды я лишен.
В чем дело? - Ответ начинается - хоть и через “не” - с очень беспроблемных перечислений:
Не владелец я Сераля,
Не арап, не турок я,
[те гаремы имеют]
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя...
[лаской или силою те себе женщину достанут]. И так далее - беспроблемность.
А оканчивается стихотворение колоссальной проблемой: признанием героя, что он монах.
Это опять прорвался голос экстремистского птенчика. И вообще-то: поминать церковь всуе - почти как и Бога - неприлично. А тут - еще и с издевательством:
Взглянь на стены возвышенны,
Где безмолвья вечный мрак;
Взглянь на окна загражденны,
На лампады там зажженны...
Знай, Наталья! - я... монах!
Мол, не внутренняя цельность, не крепость духа удерживает монахов от мирских соблазнов, а тюремное устройство монастырских построек.
Такой уклон, в первый миг, принимают наши ассоциации еще и из-за полнейшей фривольности героя и из-за уже привычности нападок на духовенство, длившихся в течение всего века Просвещения. Мелькает мысль: не едкая ли сатира тут на лицемерие общества и на институт монастырей, как на яркое проявление лживости?
Но тут вас озадачивает другая мысль - что “автор” и здесь устроил подвох своему герою. Тот же не может быть монахом, ведя вполне мирской образ жизни (вернитесь к началу стихотворения):
...Как любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль воксалах
Легким зефиром летал...
И что-то не видно, чтоб в обстоятельствах места и действия у птенчика случались перемены:
Как, смеясь во зло Амуру,
Я писал карикатуру
На любезный женский пол;
Но напрасно я смеялся,
Наконец, и сам попался,
Сам, увы! сума сошел [увидев прелести Натальи].
А потом опять решается: детским грехом, намерением сказать oaeia!..
Но... вместо oaeiai - пошли ассоциации с театральными сценами, все более проблемными относительно решения любовной коллизии.
Да и там: только лишь воображение доходит слишком далеко - до удовлетворения,- как оно обрывается чем-то сверхпроблемным:
Белоснежну, полну грудь...
Я желал бы... да ногою
Моря не перешагнуть,
И, хоть по уши влюбленный,
Но с тобою разлученный,
Всей надежды я лишен.
В чем дело? - Ответ начинается - хоть и через “не” - с очень беспроблемных перечислений:
Не владелец я Сераля,
Не арап, не турок я,
[те гаремы имеют]
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя...
[лаской или силою те себе женщину достанут]. И так далее - беспроблемность.
А оканчивается стихотворение колоссальной проблемой: признанием героя, что он монах.
Это опять прорвался голос экстремистского птенчика. И вообще-то: поминать церковь всуе - почти как и Бога - неприлично. А тут - еще и с издевательством:
Взглянь на стены возвышенны,
Где безмолвья вечный мрак;
Взглянь на окна загражденны,
На лампады там зажженны...
Знай, Наталья! - я... монах!
Мол, не внутренняя цельность, не крепость духа удерживает монахов от мирских соблазнов, а тюремное устройство монастырских построек.
Такой уклон, в первый миг, принимают наши ассоциации еще и из-за полнейшей фривольности героя и из-за уже привычности нападок на духовенство, длившихся в течение всего века Просвещения. Мелькает мысль: не едкая ли сатира тут на лицемерие общества и на институт монастырей, как на яркое проявление лживости?
Но тут вас озадачивает другая мысль - что “автор” и здесь устроил подвох своему герою. Тот же не может быть монахом, ведя вполне мирской образ жизни (вернитесь к началу стихотворения):
...Как любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль воксалах
Легким зефиром летал...
И что-то не видно, чтоб в обстоятельствах места и действия у птенчика случались перемены:
Как, смеясь во зло Амуру,
Я писал карикатуру
На любезный женский пол;
Но напрасно я смеялся,
Наконец, и сам попался,
Сам, увы! сума сошел [увидев прелести Натальи].
Неуклюже получилось.
У кого: у героя, или у “автора”?
У обоих.
Но в биографии того, кто породил и образ автора, и образ героя, изменение места жительства и образа жизни таки случилось...
Смехи, вольность - все под лавку...
Родительский дом, где кроме няни его никто не любил, но зато и не обращал внимания, обеспечивая вольность,- сменился полутюрьмой лицея.
И тогда вас озаряет, что “монах” это литературное сравнение. Очень емкое. Вместе со своей неуклюжестью выводящее из тупика изящества стиля рококо.
Речь идет об уже упоминавшемся тайном изъяне идеала рококо - о скуке и пошлости, когда все достижимо. А именно вседостижимым становится любой, доселе недозволенный, неприличный, эротический мотив, будучи облагорожен изяществом, проявлением чувства меры, этого родового признака классицизма, распространяющегося и на такой вид классицизма, как рококо.
Рококо в неуемном “ерзаньи” этого пушкинского стихотворения от удовлетворенности к неудовлетворению и наоборот проявило все три свои исторические тенденции: выхолоститься в эпигонском изяществе и недейственности (позиция “автора”), превратиться в нечто раскованно-демоническое (позиция героя), как, например, в оссиановской традиции, и, наконец, преобразиться в противоположную крайность, можно сказать, в нечто истошно-нравоучительное, как в философских повестях Вольтера, писанных после его второго спуска в рококо.
Это при первом своем появлении в рококо Вольтер абсолютизировал сладострастие: “Истинная мудрость в том, чтобы избегать грусти в объятиях наслаждения” (1715 г.); “Удовольствие есть предмет, долг и цель всех разумных существ” (1716 г.). Но после того, как он залетал в просветительский классицизм “Генриады” с ее идеалом просвещенной монархии (1728 г.), - в, так сказать, вторичном рококо его “Орлеанской девственницы” (после 1730 г.),- Вольтер уже с подвохом сочувствует, например, сладострастному французскому королю:
...Сраженных горы каждый миг растут,
Британцы делают из них редут;
К нему бросаются герои наши.
В кровавой и ужасной этой каше
Король сказал: “Мой милый Дюнуа,
Скажите мне, скажите, где она?”
“Кто?”- Дюнуа спросил. “Она ушла,-
Твердил король,- увы, что с нею стало?”
“С кем?” - ”Нет ее! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Бог мой...
Ее сегодня не было со мной...”
“Ее найдем мы”,- молвила Иоанна.
“О боже, сохрани,- король просил,-
Агнесу верной мне!” - и наносил
Удары англичанам неустанно.
Это о чем говорят в пылу боя! И слышат друг друга! И кто: французский король и Жанна д`Арк, взявшиеся спасти Францию от английского нашествия!.. - Издевательская нелепость? - Ими переполнена “Орлеанская девственница”. Таков жанр: сатирическая поэма. Вольтер в ней издевается над лицемерным аскетизмом духовенства и официальной идеологией всего общества, этим духовенством пестуемого (впрочем, как видим, достается и естественному, как трава, королю Франции). А сарказму - все позволено.
Позже, когда Вольтер вернулся к высокому просветительскому классицизму, его сарказм уже не считался с жанрами и внедрялся повсеместно.
Вот и Пушкин,- глядя на Вольтера, еще психологически точного во фривольности, но уже не стесняющего себя правдоподобием в остальном, - вот и Пушкин решился на неуклюжесть внезапного сравнения лицеиста с монахом. Сарказму все позволено.
И сарказм направлен не только и не столько на вдруг явившегося монаха, а на все время тут извивавшееся рококо: вот, мол, выход - лицемерный монах. Он никогда не совершит грешный поступок, зато навсегда останется неудовлетворенным и вожделеющим Натальи. Всегда! Это издевательство над рококо.
И это катарсис. Это то (может, и не вполне осознаваемое), что вдохновило Пушкина на сочинение данного стихотворения - его художественный смысл. И его нельзя процитировать. Если б художественный смысл можно было процитировать - зачем бы тогда существовать всему остальному произведению? Пушкин (да и любой художник) не был бы поэтом, если б мог выражаться в лоб. В поэте творит весь организм, включая и подсознание, а не только сознание. Даже когда творит - уж куда больший апологет рационализма - классицист. А иначе поэт был бы рифмоплет, иллюстратор уже готовой мысли, и тут не было бы искусства. В произведении же искусства художественный смысл его не дан заранее ни творцу, ни читателю. Поэту он задан неопределенным вдохновением, которое побуждает себя определить, выразить путем сотворения целого произведения, не меньше. Читателю же художественный смысл нужно сотворить, опираясь тоже на целое произведение, а не на цитату. В цитате художественный смысл есть лишь постольку, поскольку его можно вывести из почти любого элемента произведения. Вывести - из противоречивых подэлементов, но не прочесть напрямую.
Это как в физике параллелограмм сил: две разнонаправленные силы и их равнодействующая, направленная ни вдоль первой, ни вдоль второй. Пловец гребет в одну сторону, река несет его в другую. Не потерявший еще невинности герой тянет в экстрему эротического удовлетворения, умудренный “автор” - его подсекает и высмеивает. Третьего, вроде, нет. “Процитировать” нельзя. А воспаряя, сверху - озаряет и видно это третье.
В эпиграфах, правда, обычно дается суть произведения или намек на нее, какой ее автор осознает. Стихотворение “К Наталье” имеет следующий эпиграф (в переводе с французского):
К чему мне скрывать это?
Марго мне приглянулась.
В смысле - обычное дело: пришел - увидел - победил, и никаких проблем. Я - одна точка, приглянувшаяся Марго - другая; проводим через две точки кратчайшую линию - прямую. И все. Скука. А нижеследующее, стихотворение, дает “рецепт”, как ее преодолеть раз и навсегда.
Итак, стихотворение “К Наталье” только по видимости эротическое, представитель “легкой поэзии”, рококо. А по сути - едва ли не наоборот: насмешка над рококо.
Раз осмеяв его, Пушкин вполне был способен написать сколько угодно по-настоящему эротических, гедонистических стихов. Они, эти - по выражению Томашевского - “холодные имитации мифологических эпизодов” [8], его больше не трогают. “Он не принадлежит исключительно ни к какому учению...” “Его сердце холодно...” В 1813-м, -14-м годах, а может, и в15-м.
Примечания:
1 - Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. C. 28.
2 - Томашевский Б.В. Пушкин. М.-Л., 1956. Кн. 1. С. 91-92.
3 - Сучков Б.Л. Исторические судьбы реализма. М.,1967. C. 14.
4 - Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М.,1985. С. 259.
5 - Прокофьев В.Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения. В кн.: Советское искусствознание ‘77. Второй выпуск. М., 1978. С. 263. Прокофьев В.Н. Федор Иванович Шмит (1877-1941) и его теория прогрессивного циклического развития искусства. В кн.: Советское искусствознание ‘80. Второй выпуск. М., 1981. C. 269, 277.
6 - Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985. С. 259.
7 - Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987. С. 115.
8 - Томашевский Б.В. Пушкин. М.-Л., 1956. Кн. 1. С. 107.
У кого: у героя, или у “автора”?
У обоих.
Но в биографии того, кто породил и образ автора, и образ героя, изменение места жительства и образа жизни таки случилось...
Смехи, вольность - все под лавку...
Родительский дом, где кроме няни его никто не любил, но зато и не обращал внимания, обеспечивая вольность,- сменился полутюрьмой лицея.
И тогда вас озаряет, что “монах” это литературное сравнение. Очень емкое. Вместе со своей неуклюжестью выводящее из тупика изящества стиля рококо.
Речь идет об уже упоминавшемся тайном изъяне идеала рококо - о скуке и пошлости, когда все достижимо. А именно вседостижимым становится любой, доселе недозволенный, неприличный, эротический мотив, будучи облагорожен изяществом, проявлением чувства меры, этого родового признака классицизма, распространяющегося и на такой вид классицизма, как рококо.
Рококо в неуемном “ерзаньи” этого пушкинского стихотворения от удовлетворенности к неудовлетворению и наоборот проявило все три свои исторические тенденции: выхолоститься в эпигонском изяществе и недейственности (позиция “автора”), превратиться в нечто раскованно-демоническое (позиция героя), как, например, в оссиановской традиции, и, наконец, преобразиться в противоположную крайность, можно сказать, в нечто истошно-нравоучительное, как в философских повестях Вольтера, писанных после его второго спуска в рококо.
Это при первом своем появлении в рококо Вольтер абсолютизировал сладострастие: “Истинная мудрость в том, чтобы избегать грусти в объятиях наслаждения” (1715 г.); “Удовольствие есть предмет, долг и цель всех разумных существ” (1716 г.). Но после того, как он залетал в просветительский классицизм “Генриады” с ее идеалом просвещенной монархии (1728 г.), - в, так сказать, вторичном рококо его “Орлеанской девственницы” (после 1730 г.),- Вольтер уже с подвохом сочувствует, например, сладострастному французскому королю:
...Сраженных горы каждый миг растут,
Британцы делают из них редут;
К нему бросаются герои наши.
В кровавой и ужасной этой каше
Король сказал: “Мой милый Дюнуа,
Скажите мне, скажите, где она?”
“Кто?”- Дюнуа спросил. “Она ушла,-
Твердил король,- увы, что с нею стало?”
“С кем?” - ”Нет ее! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Бог мой...
Ее сегодня не было со мной...”
“Ее найдем мы”,- молвила Иоанна.
“О боже, сохрани,- король просил,-
Агнесу верной мне!” - и наносил
Удары англичанам неустанно.
Это о чем говорят в пылу боя! И слышат друг друга! И кто: французский король и Жанна д`Арк, взявшиеся спасти Францию от английского нашествия!.. - Издевательская нелепость? - Ими переполнена “Орлеанская девственница”. Таков жанр: сатирическая поэма. Вольтер в ней издевается над лицемерным аскетизмом духовенства и официальной идеологией всего общества, этим духовенством пестуемого (впрочем, как видим, достается и естественному, как трава, королю Франции). А сарказму - все позволено.
Позже, когда Вольтер вернулся к высокому просветительскому классицизму, его сарказм уже не считался с жанрами и внедрялся повсеместно.
Вот и Пушкин,- глядя на Вольтера, еще психологически точного во фривольности, но уже не стесняющего себя правдоподобием в остальном, - вот и Пушкин решился на неуклюжесть внезапного сравнения лицеиста с монахом. Сарказму все позволено.
И сарказм направлен не только и не столько на вдруг явившегося монаха, а на все время тут извивавшееся рококо: вот, мол, выход - лицемерный монах. Он никогда не совершит грешный поступок, зато навсегда останется неудовлетворенным и вожделеющим Натальи. Всегда! Это издевательство над рококо.
И это катарсис. Это то (может, и не вполне осознаваемое), что вдохновило Пушкина на сочинение данного стихотворения - его художественный смысл. И его нельзя процитировать. Если б художественный смысл можно было процитировать - зачем бы тогда существовать всему остальному произведению? Пушкин (да и любой художник) не был бы поэтом, если б мог выражаться в лоб. В поэте творит весь организм, включая и подсознание, а не только сознание. Даже когда творит - уж куда больший апологет рационализма - классицист. А иначе поэт был бы рифмоплет, иллюстратор уже готовой мысли, и тут не было бы искусства. В произведении же искусства художественный смысл его не дан заранее ни творцу, ни читателю. Поэту он задан неопределенным вдохновением, которое побуждает себя определить, выразить путем сотворения целого произведения, не меньше. Читателю же художественный смысл нужно сотворить, опираясь тоже на целое произведение, а не на цитату. В цитате художественный смысл есть лишь постольку, поскольку его можно вывести из почти любого элемента произведения. Вывести - из противоречивых подэлементов, но не прочесть напрямую.
Это как в физике параллелограмм сил: две разнонаправленные силы и их равнодействующая, направленная ни вдоль первой, ни вдоль второй. Пловец гребет в одну сторону, река несет его в другую. Не потерявший еще невинности герой тянет в экстрему эротического удовлетворения, умудренный “автор” - его подсекает и высмеивает. Третьего, вроде, нет. “Процитировать” нельзя. А воспаряя, сверху - озаряет и видно это третье.
В эпиграфах, правда, обычно дается суть произведения или намек на нее, какой ее автор осознает. Стихотворение “К Наталье” имеет следующий эпиграф (в переводе с французского):
К чему мне скрывать это?
Марго мне приглянулась.
В смысле - обычное дело: пришел - увидел - победил, и никаких проблем. Я - одна точка, приглянувшаяся Марго - другая; проводим через две точки кратчайшую линию - прямую. И все. Скука. А нижеследующее, стихотворение, дает “рецепт”, как ее преодолеть раз и навсегда.
Итак, стихотворение “К Наталье” только по видимости эротическое, представитель “легкой поэзии”, рококо. А по сути - едва ли не наоборот: насмешка над рококо.
Раз осмеяв его, Пушкин вполне был способен написать сколько угодно по-настоящему эротических, гедонистических стихов. Они, эти - по выражению Томашевского - “холодные имитации мифологических эпизодов” [8], его больше не трогают. “Он не принадлежит исключительно ни к какому учению...” “Его сердце холодно...” В 1813-м, -14-м годах, а может, и в15-м.
Примечания:
1 - Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. C. 28.
2 - Томашевский Б.В. Пушкин. М.-Л., 1956. Кн. 1. С. 91-92.
3 - Сучков Б.Л. Исторические судьбы реализма. М.,1967. C. 14.
4 - Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М.,1985. С. 259.
5 - Прокофьев В.Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса: их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствоведения. В кн.: Советское искусствознание ‘77. Второй выпуск. М., 1978. С. 263. Прокофьев В.Н. Федор Иванович Шмит (1877-1941) и его теория прогрессивного циклического развития искусства. В кн.: Советское искусствознание ‘80. Второй выпуск. М., 1981. C. 269, 277.
6 - Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1985. С. 259.
7 - Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987. С. 115.
8 - Томашевский Б.В. Пушкин. М.-Л., 1956. Кн. 1. С. 107.